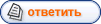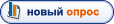З[size=16]Зоя Крахмальникова. Письма из ссылки. Игнатий Лапкин и Зоя Крахмальникова – 10.02.1990 г.

“[color=green]Литературный институт был для меня очень важен. Я научилась там многому. Литинститут дал мне возможность понять важность и существо той профессии, которая была мной выбрана, важность и существо творчества. Творчество можно полюбить, научиться творчеству нельзя. Литинститут привил любовь к литературе и к жизни” — так говорит сегодня о Литинституте Зоя Крахмальникова. После окончания института, казалось, ничто не предвещало драматических поворотов в ее судьбе. Она работала в различных московских издательствах, защитила кандидатскую диссертацию.
Однако напряженный поиск смысла жизни побудил ее обратиться к христианству. В середине семидесятых она создает сборник христианского чтения “Надежда”, который выходит сначала в самиздате, а затем — за рубежом в “Посеве”. Потом арест, тюрьма, нежелание отказаться от своих убеждений, ссылка. Вскоре после нее был арестован и ее муж — писатель Феликс Светов. Его роман “Тюрьма”, рассказывающий о тех днях, был опубликован “Невой” в 1991 году.
Моя дорогая детка, мой добрый ангел, недавно я снова побывала в Усть-Кане. Проездом.
Мы возвращались со Световым из Горно-Алтайска, куда нас пригласили для разговора. К областному прокурору.
Мы могли выйти на свободу, вернуться домой, к своим детям и внукам. Нам предложили в обмен на свободу дать заверение в том, что мы не будем нарушать закон. А значит, косвенно признать, что мы его нарушили, исповедуя свою веру, и, значит, признать правыми тех, кто стоял “на страже закона” и попирал его, попирая и убивая себя, свою совесть.
Мне отмщение, и Аз воздам, — говорит Господь, и пред Его Страшным судом наш суд ничтожен.
Усть-Канская земля в оковах гор, скрывающих горизонт, была особенно пустынна в эту ночь. Казалось, тьма и пыль поглотили все, что было окружено горами. Казалось, место это безлюдно и человечеству больше не нужен Усть-Кан. Мы вышли на темную площадь и отправились в милицию отметить маршрутные листы. Милиция была рядом, дежурный смотрел телевизор. Он узнал нас.
Усть-Канская пустыня пахла ссылкой, надзором, одиночеством, необходимым, желанным одиночеством. Мы забыли, что впервые встретились после моих тюрем здесь же, в усть-канской милиции.
Тогда Усть-Кан был залит солнцем, и запах ссылки, надзора, желанного одиночества был поглощен радостью встречи, надеждой на свободу. Тогда мы еще не были уверены в том, что и Светова ждет та же самая печь, тот же самый ад, чтоб, пройдя через него, оказаться через год ночью в Усть-Кане, возвращаясь оттуда, где можно было отдать душу в обмен на свободу.
Мы так устали за двенадцать часов дороги! Восемь часов — перевалы, спуски, подъемы, и четыре часа перед тем — ожидание автобуса в милицейской машине под непрерывным снегопадом. Мы так смертельно устали, что были счастливы, получив возможность укрыться одеялами и уснуть. Мы хотели поскорее забыть о том торге, в котором не захотели участвовать.
Мы отказались от него не потому, что не могли простить жестокости расправы над нами, ни в чем не повинными перед законом. Не потому, что не могли простить бессмыслицы зла и жестокости. Не потому, что все эти годы не переставали ужасаться чудовищности лжи. Мы знали, что без воли Божией никто не мог бы причинить нам зла. И потому, вспоминая о слезах детей, арестах, обысках, о бесчеловечности сатанинских обманов и сатанинской бессмыслице завуалированных мучений, мы старались принять их как благо Бога.
Светова приговорили к ссылке из “гуманных соображений”, как было сказано в приговоре. Однако после “гуманного приговора” его, пожилого больного человека, протащили по семи пересыльным тюрьмам, намеренно повезли в противоположную сторону, чтобы помучить на этапах, затем в наручниках привезли в последнюю тюрьму и держали там в следовательной камере, чтоб вырвать у него отречение. А до тех пор — целый год в уголовной тюрьме и почти каждый месяц — перевод в другую камеру.
“Мамочка, смотри, как нас любит Бог, — писала мне в ссылку наша дочь из роддома, — сегодня арестовали папу и сегодня же родился Тимофей…”
Через месяц после суда над Световым сожгли его архив, письма покойной матери, письма покойной жены 40-летней давности, письма покойных и ныне здравствующих писателей книги, в частности, книгу переписки Пастернака с Фрейденберг, рукописи, черновики.
Сожгли ли? Из прокуратуры сообщили, что все уничтожено. Рукописи писателя, плод многолетней работы сожгли в печах, предназначенных для уничтожения неугодных творений человеческого духа.
“Зачем?” — спросишь ты, мой ангел. “И это угодно Богу?” — может спросить каждый.
Дальше начинается все другое.
“Мир другой”, — с этой мысли, столь невнятной, с этого ничего не значащего, казалось бы, намека на какое-то до сих пор неведомое мне знание началось мое возвращение к жизни в аду лефортовской тюрьмы.
Мир другой, Бог сотворил другой мир, не тот, который мы видим, и не тот, который мы чувствуем. И для того, чтобы вернуться в Божий, реальный мир, в реальность сотворенного бытия, нужно было пройти через земной ад.
Тот мир, из которого вырвал меня Господь, был сотворен не Им, а сознанием и стараниями того, кто ненавидит Бога. Он был навязан мне, этот мир, и я должна была приспособить к нему себя, свой ум, свое сердце и даже свою веру. Этот навязанный мне мир всю жизнь пугал меня страхом гибели. Он был размещен во времени, и каждая мельчайшая частица этого времени была изначально поражена тлением.
Конечно же, в нем не было и нет Бога не потому, что Бог покинул его, в нем не было и нет Бога, потому что этого мира нет. Его не существует. Это — роковая болезнь безбожного сознания, болезнь человечества, ставшая в наше время эпидемией тотального масштаба.
Никто не знает в точности истинных причин этой эпидемии. Самая распространенная и присущая всем эпохам трактовка ее причины — свобода. К моему сознанию приражается, как говорят св. Отцы, навязанная ложь, оно заражается чуждым, привнесенным, приразившимся, пленившим Сознание, заражается чуждой мыслью, мысль, однако же, становится моей. Или не становится моей.
И здесь действует свобода, избирающая воля. Мысль, естественно, ведет к делу.
Кто же порождает эту мысль, эту ложь?
“С того времени, — говорит св. Симеон Новый Богослов, — как дьявол устроил для человека посредством преслушания изгнание из рая и отлучение от Бога, он с бесами своими получил свободу мысленно колебать словесность каждого человека, одного больше, другого меньше…”
Ложь связана с человекоубийством, она порождается диаволом именно для этой цели. Ваш отец диавол, — говорит Господь тем, кто не понимает Его, тем, кто не может слышать Его, — и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Иоан. 8; 44).
Обрати внимание, что Господь говорит: хотите исполнять. Хотите слушать дьявола и потому не понимаете речи Моей и потому не можете слышать слова Моего (Иоан. 8, 43). Значит, когда я слушаю ложь, я не могу слышать Истину. Моя словесность, то есть моя мысленная и сердечная область, мои смыслы поражены, искажены, больны. Дьявол знает об этой “несовместимости” истины и лжи, и ему дана свобода искушать ложью, “колебать” мою словесность, он — творец ложных мыслей, по слову одного духовного писателя: Господь говорит: когда он говорит ложь, говорит свое. Эта “энергия лжи” передается всем без исключения. И если я принимаю эту “энергию лжи”, эту чуждую мысль, я принимаю ее свободно, сознательно.
Это — духовная проблема. Это проблема совести и свободы. Принять ложь за правду легко, но и столь же легко вскоре разубедиться в том, что ложь есть ложь. Сознательно и свободно принимая ложь, я добровольно становлюсь жертвой эпидемии. Отныне я столь же свободно могу распространять эту мысль, делиться ею с людьми, утверждая ее, бороться за нее, считая все, что противоречит усвоенной мне мысли, ложью. Я стала одной из тех, кому Господь сказал: Не понимаете речи Моей… не можете слышать слова Моего. Уже не только не хотитe, но и не можете.
Эпидемия почти тотальна, и мне это помогает: все больны, и ничего не поделаешь. Все должны умереть, и я ничуть не лучше всех прочих. Все поклоняются одним и тем же идолам, вещественным ли, словесным ли, и мне придется отдать им должное.
И все же у моей свободы, избравшей возможность тотального шествия к смерти, к небытию, остается до конца моей жизни еще одна возможность: отказаться от смерти. “Это безумие! — кричат мне все. — Ты ничуть не лучше нас!”
Человека можно заковать в кандалы, привязать канатами, прибить к кресту, нещадно мучить, но его нельзя заставить мыслить, верить, хотеть, любить, если он этого не хочет. Есть термин: “внести сознание”; видимо, он сочинен по аналогии с возможностью “внести вирус, микроб”. Но если человеку возможно привить телесную болезнь — грипп или проказу, ему невозможно насильственно “привить” сознание. Он должен захотеть стать больным, должен захотеть или смерти, или воскресения, ада или рая.
Душа человека знает, что можно преодолеть смерть, она живет надеждой на бессмертие, но далеко не каждый человек хочет преодолеть смерть, далеко не каждый захочет воспользоваться своими возможностями. Потому что для преодоления смерти надо совершить побег из “державы смерти”, из мира, которого нет и который навязан моему уму, чтобы пугать меня неизбежностью гибели.
Державой смерти называет св. Апостол Павел в Послании к евреям несуществующий нереальный мир. Он называет его пленом, рабством у смерти, у имеющего державу смерти, то есть у диавола (2; 14–25).
Чем же держит в рабстве, в плену тот, кто правит державой смерти?
У князя мира сего, у диавола, нет, как мы знаем, ни пушек, ни бомб, ни автоматов.
Он держит мыслью. Мыслью, заражающей сознание ложью и страхом смерти, ужасом плоти и крови. Мысль, внушенная диаволом и породившая смерть, ничуть не уступает по своей силе страху перед дулами заряженных пушек и автоматов.
Человек причастен плоти и крови, и страх за плоть и кровь ввергает его в плен к тому, кто царствует в державе смерти. Поэтому Господь принимает плоть и кровь и претерпевает распятие, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству (Евр. 2; 14–15). Так открывает св. Апостол Павел смысл Воплощения.
Бог является в сотворенный Им мир во плоти и крови, чтоб вывести тех, кто этого захочет, из нереального мира, созданного мыслью лжеца, из мира, в котором воцарилась тотальная смерть. Он постоянно является и после Своего Воскресения и Вознесения, является в славе Своей тем, кто верует в Него и постоянно жаждет единения с Ним.
К тому времени, когда я поняла, что мир другой и что я не должна больше задерживаться в державе смерти ни на минуту, Бог показал мне в той степени, в какой я могла это воспринять, власть и бессилие державы смерти. Оказалось, что власть ее держится, по сути дела, ни на чем. На моем согласии признать ее властью. Я не могла тогда еще это осмыслить. Но я уже могла увидеть, что вся сила, вся громада, вся мощь окружающего меня ада держится только на одном — на моем согласии принять ложь за правду. Я должна была тогда понять, что вся мощь этого ада сооружалась ложью только затем, чтобы ложь победила правду. Чтоб одна мысль победила другую, потому что мысль нельзя победить мощью сооруженного ада, а только другой мыслью, если я захочу ее добровольно принять. Познание этой простоты требовало покоя мысли и сердца, но покой ежеминутно взрывался. Моя душа не умела входить в покой, потому что ее главной работой была подготовка к побегу. Но до побега было еще далеко. Работа шла исподволь, и сознание словно бы не успевало за душой. Тогда Бог и начал открывать моему уму сущность происходящего. По-видимому, те, кому было поручено сокрушить мою жизнь, не могли сыскать никаких оригинальных способов доказательства своей мысли. Скорей всего, этих способов вообще не было и нет, потому что мысль, воспринятая ими от имеющего державу смерти, была проста, как просты угрозы и намерения, цель которых пробудить страх гибели. Во всяком случае, мысль моего обвинителя была всегда однообразна и монотонна, он не искал доказательств своей правоты, он хотел одного: чтоб я объявила правду ложью. Эта целеустремленность к тому, что впоследствии было мной определено для самой себя как “антилогика”, эта всепоглощающая жажда лжи и ненависти к Богу были, конечно же, прямым доказательством бытия Божия. И бесы веруют и трепещут, — свидетельствует св. Апостол Иаков. Так оно и было, так оно и есть. Бог показал мне Свою правду, поставив меня лицом к лицу с ложью.
Бытие Бога подтверждалось жаждой победить Бога, победить Истину ложью. Для этого и была сооружена вся громада, вся власть и мощь окружавшего меня ада.
Если Бога не было, зачем нужно было бы Его опровергать?! Разве опровергают то, чего нет? Разве нужно свидетельствующих о своей вере в Бога сажать в темницы, предварительно оклеветав их, если Бога нет?! Кому может нанести вред тот, кого нет? Но несуществующий мир, держава смерти неизбежно влечет тех, кто добровольно жительствует в ней, к небытию. К небытию всех. И тех, кто хочет жить в этом нереальном мире, и тех, кто задумал побег. Их надо во что бы то ни стало “вобрать”, втянуть в этот вакуум… А если они захотят все же совершить побег, надо гнаться за ними по пятам, чтобы не упустить ни одного.
Вспомни, мой ангел, эту постоянно повторяющуюся ситуацию из книги Исход, открывающую главенствующие смыслы человеческой жизни.
Бог хочет вывести Свой народ, человечество, каждую душу из рабства, из нереального мира, избавив от господства того, кто поставлен властвовать над народом Божьим. “Кем поставлен? — наверное, спросишь ты. Богом или тем, кто имеет державу смерти?” Богом, думаю я, ибо и бесы не могут, как мы знаем из Евангелия, войти даже в свиней без Божьего повеления. Бог хочет, чтоб маленький, ничтожный человечек, “обложенный плотью” (я — червь, говорит о себе прославленный своей кротостью Псалмопевец), смог противостоять громаде фараона, мощи его войск и грохоту его колесниц. Он должен совершить побег. Ему пришла пора покинуть державу смерти.
Каждая минута жизни в этом веке дана для побега из рабства. С тех пор, как Адам по своей воле уступил сатане, поверив его лжи, человечество — весь Адам — и каждый человек облекся во тьму, — пишет преп. Макарий Великий. “Враги обманом восхитили славу человека и облекли его стыдом. Похищен свет его, и обличен он во тьму. Убили душу его, рассыпали и разделили помыслы его, совлекли ум его с высоты, и человек — Израиль — стал рабом истинного Фараона; и он поставил над человеком приставников дел и досмотрщиков — лукавых духов, которые понуждают человека волею и неволею делать лукавые дела его, составляя брение и плинфы. Удалив человека от небесного образа мыслей, низвели его к делам лукавым — вещественным, земным, бренным, к словам, помышлениям и рассуждениям суетным, потому что душа, ниспав с высоты своей, встретила человеконенавистническое царство жестоких князей, которые понуждали ее созидать им греховные грады порока” (“Добротолюбие”, т. 1).
Однако уйти от Фараона не так легко. Речь идет не о тайном побеге. Фараон должен отпустить Божий народ, человека, человечество для служения Богу. Бог хочет, чтобы намерение совершить побег стало известно всем.
Фараону нужен народ Божий, он строит Фараону “грады порока”. К тому же Фараон не хочет уступать ни в чем, не хочет он уступить главное — власть над душами и мыслями.
Фараон всегда один и тот же. У него разные имена, он облачен в различные доспехи, то есть в различные формы, зависимые от исторических, социальных, национальных и прочих временных сюжетов. Фараон — это сущность, но не форма. Сущность богоборческая и богохульная. Человек, позволивший мысленным силам создать в себе сущность Фараона, всегда ненавидит Бога и Его народ и всегда стремится властвовать над душами. Бог постоянно ожесточает сердце Фараона, чтобы более жгучей стала жажда покинуть его державу для тех, кто хочет войти в реальный мир, сотворенный Богом.
Бог ожесточает сердце Фараона, чтобы более жгучими становились скорби. Мир тотально порабощен князем мира сего. Порабощен им и сам Фараон, воспринявший от князя мира сего мысль о необходимости властвовать над народом Божьим. Бог ожесточает сердце Фараона для того, чтобы явить славу Свою, заставив Фараона уступить повелению Бога. Он ожесточает сердце Фараона, потому что Фараон осужден. Ненависть гонителей есть свидетельство их обреченности. Ожесточение сердца — наказание Господне. Фараон осужден, и Бог не дает ему проявить милосердие.
Поэтому Фараон, вынужденный Богом отпустить народ, решает оставить себе детей, чтобы властвовать над их душами и мыслями и чтоб дети сооружали для него “греховные грады порока”. Но Бог не позволяет и этого Фараону. Тогда он хочет забрать имущество, но и это ему не удается. Господня земля и что наполняет ее…
Фараон не отпускает по своей воле ни одного, не отпускает самого никчемного, не приносящего никакой пользы державе Фараона, а когда Бог принуждает его отпустить, гонится по пятам, надеясь, что кто-то вернется назад.
Бог ждет. Он идет впереди. Он указывает путь, а Фараон наступает на пятки.
Наконец Бог предает Фараона заслуженной участи. На его место воссядет другой…
Мы должны с тобой помнить, что Фараон свободен, так же как мы, избирающие жизнь или смерть. Бог не нарушает свободы Фараона ни тогда, когда Фараон не хочет отпустить народ, ни тогда, когда, отпустив его, гонится за ним по пятам…
Зачем я вспоминаю это? — спросишь, наверное, ты.
Я должна выйти из этой болезни. Это тяжкая форма отравления. Отравления ложью. Исцелиться от этого трудно, порой кажется, что это невозможно. Эпидемия почти тотальна…
Ведь мало совершить побег, надо изменить сознание. Сорок лет водил Господь Свой народ по пустыням, чтоб человек, совершивший побег, смог научиться жить в реальном мире. Многие так и не смогли. Они хотели вернуться к Фараону, в Египет, в рабство. Им легче было жить в державе смерти. И потому Господь сказал: они не войдут в Мой покой. Не войдут за неверие, — уточнил св. Апостол Павел.
Нам надо туда с тобой войти. Во что бы то ни стало. Пройдя через Чермное море, несмотря на погоню, блуждая по пустыням в поисках “обитательного града”, проехав через Усть-Кан, пройдя сквозь печи, в которых сжигают книги, зовущие к Свету…
Мы должны пройти сквозь эту тьму египетскую, как проходит свет, никого не проклиная, не уставая ждать посещения Божественной Любви, чтоб удержать Ее в себе и отдать другим.
Я буду надеяться на то, что ты поймешь меня. Я буду надеяться на нашу встречу. Я буду верить в то, что Бог твои печали преложит в радость. Я прошу твоих молитв. Храни тебя Христос.
Зоя
Усть-Кокса, 2 марта 1987 г.
* * *
Здравствуй, моя радость! У нас неожиданно выпал снег. Весна остановилась. Мы привыкли к таким перепадам. В этом есть свой смысл.
Перемены внешние и внутренние всегда воспринимаются нами как тяготы, но без них нет движения к завершению.
Этот мир завершается. Завершается со времен Апостольских. Уже через несколько лет после Воскресения Спасителя, даровавшего возможность победить смерть, Апостолы свидетельствуют о близящемся конце мира. Они пишут Церкви: образ мира сего преходит (I Кор. 7; 31); впрочем, близок всему конец (I Пет. 4; 7) и т. п. Века, прошедшие с тех пор, — мгновения. Ученики Христовы мыслят во времени, преодолевая время. У Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Сколько веков Он оставил человечеству до завершения этого мира?
Движение к концу всего лишь цепь перемен. Конец должен иметь начало. Начало созревает в цепи перемен. Оно вызревает в душах тех, кто принял и осознал сокрытое в этом веке начало будущего века.
Ты засыпала меня вопросами. Я рада. Но смогу ли я ответить на них? Вряд ли. Ты получишь на них ответ непременно, если ответ будет тебе необходим. Независимо от того, смогу ли я ответить тебе.
Думая над твоими вопрошаниями, я вспомнила, как на усть-канской площади капитан милиции спросил меня: “Как это с вами случилось?”
Этот разговор произошел через несколько месяцев после того, как меня привезли в Усть-Кан. По-видимому, Усть-Кан уже привык ко мне и моему одиночеству. И хотя люди, живущие в суровых условиях усть-канской пустыни, куда менее общительны, чем горожане, они все же иногда заговаривали со мной. Чаще всего их побуждало к тому любопытство. Вот и капитан милиции смотрел на меня с нескрываемым любопытством: “Вы православная? Не может быть!”
В Усть-Кане давно уже нет храма. Иначе меня бы не привезли сюда.
“Зачем эта дорога, если она не ведет к храму?” — так кончается фильм “Покаяние”, который я недавно увидела. В фильме не было ответа на этот вопрос, но в самом вопросе уже таился ответ на него. “Как это с вами случилось?” — спросил капитан. “Как это с вами случилось?” — спросил меня конвоир на этапе. “Как это с вами случилось?” — спрашивали меня в камерах и на этапах. Охранники и заключенные. Разве сейчас еще веруют в Бога?!
“Миром правит не Бог, а сатана”, — сказал мне в “воронкй” парень, которого вместе с другими везли в лагерь строгого режима.
Я задохнулась. Я не знала, что ему сказать. Вести богословский спор в “воронке” не было возможности. Да и что могут дать богословские трактовки власти над миром этому парню? “Мы — бандиты, мамаша”, — сказал мне парень. У него не было никакого любопытства ко мне. И никакой хитрости. Он не поверил мне, он говорил со мной почти так же, как следователь на первых допросах.
“Как же это с вами случилось?”; “Любопытно!”; “Бога — нет”; “Миром правит сатана”; За веру не сажают, у нас попы разрешены”; “Молились бы себе тихонько, и никто бы вас не посадил”, и т. д., и т. п.
Это любопытство свидетельствовало об исчезновении Христианства.
Об исчезновении Христианства свидетельствовали газеты, журналы, кино, телевизор. А об исчезнувшем христианстве свидетельствовала культура. Но более всего об этом свидетельствовали мы сами, те, кто считал себя христианами. Свидетельствовали тем, что не замечали исчезновения того, что исчезнуть не может.
Сразу объясню тебе, что это мое личное переживание. Оно отнюдь не универсально и может быть только личным ощущением, я его нашла в себе. Когда я обрела начатки веры, я думала иначе, я была убеждена, что начинается расцвет Христианства, что вот-вот вся Россия и вслед за ней весь мир придут ко Христу. Моя душа жаждала этого расцвета, и я считала, что эта жажда присуща всему человеческому роду. Я писала, говорила, спорила об этом, я гневалась на тех, кто не понимал моей жажды, кто сомневался в том, что возможен этот желанный расцвет…
Я не слушала возражений. Христианство не могло исчезнуть, оно могло только процвести. В моих упованиях я возлагала особую надежду на культуру, она должна была наконец сбросить с себя лживые одежды, напяленные для прельщения ее красотами, она должна наконец отказаться от лукавства, от двоедушия, от обслуживания человека, ищущего в ней расцвета ума и наслаждений для чувств, подобных наслаждениям острыми яствами и тающими во рту пирожными.
Я потратила на эти споры с культурой и ее горячими защитниками немало сил. Я заблуждалась в своих упованиях. Культура пережила саму себя, она бессильна, не потому что не хочет вернуться к своим истокам, к культу, к утверждению подлинных начал и смыслов жизни. Она бессильна, потому что не может вернуться. Она утратила язык. Утратила Слово. И создала замены — свой язык.
Об исчезнувшем языке свидетельствует только тоска по смыслам бытия, тоска по тайне, по смыслам вещей, чувств, явлений… Тоска по Слову так сокрыта, так упрятана, так засимволизирована, что ее не поймешь, она словно бы мост куда-то, куда нет входа. Куда же? К исчезнувшему Христианству, обещавшему Вечность? К мечте о нем? К надежде? Но разве сама тоска по смыслам не есть указание на то, что смыслы исчезли? Разве можно на языке, заменившем смыслы, говорить о смыслах?
“Как это с вами случилось?” Как случилось, что, напитавшись тоской по вечным смыслам, человек прошел по тонким хрупким мосткам, вот-вот готовым треснуть под его ногами, по ним можно было пройти только один раз, не оглядываясь.
Христианство исчезло, но не исчез Христос. Вот так это и случилось. Пойди объясни капитану милиции, что это значит…
Можно подумать, что исчезновение Христианства связано с историческими или политическими сюжетами. Бога объявили вне закона, а веру в Него пережитком сначала одного, потом другого, третьего и т. д. Для того, чтобы “пережиток” не доставлял особых хлопот, составили реестр того, что ему позволялось иметь. Вера в Бога заменилась “верой в ничто”. Верой в сны, в опасность черных кошек, перебегающих дорогу, в приметы, гадания, суеверия, верчение блюдец. Человеку любым способом нужно насытить жажду тайны. Мифы позволялись, сказки остались, крашеные яйца даже поощрялись, устные рассказы о чудесах высмеивались.
“Как это с вами случилось?” — спросил меня следователь на первом допросе. Может быть, он поставил перед собой задачу разгадать загадку. Он был уверен, что разгадать ее ничего не стоит. Он перечислил заготовленные причины. Неутоленное честолюбие? Корысть? Личное и общественное поражение? “Дела” не было, и разгадка могла быть выигрышем.
Христианство исчезло. В том виде, в каком оно обнаруживало себя, не могло быть запланировано исполнение заповедей Христа. Заповеди — анахронизмы. Поэтому вопросы были законны. В регламенте и реестре исчезнувшего Христианства не было таких пунктов, как возможность духовного творчества, выражающегося в проповеди веры. Вопросы были законны. Но на них не было ответа.
Христианство исчезло не потому, что оно было кем-то регламентировано, не потому, что Бог был объявлен вне закона, а вера — пережитком.
Все было наоборот, в Христианстве все парадоксально с точки зрения мира. Вера в Бога заменена верой в ничто, потому что исчезло Христианство. Бог был объявлен вне закона, потому что исчезло Христианство. Никакие исторические и социальные причины, никакие политические системы не могут побудить Христианство к исчезновению. Оно неподвластно мирской власти, так как мирская власть, как все, что есть в этом мире, — от Бога. Нет власти не от Бога — это, пожалуй, единственная цитата из Нового завета, которую не опровергает мирская власть, не признающая Бога. Вслед за этим утверждением есть указание на то, что начальствующий — Божий слуга, и потому следует быть покорным властям, поставленным служить Богу. Но это указание мирской властью не признается, власть есть власть и ничьей слугой быть не может. Даже если власть дана от Бога…
И дано было ему (зверю) вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. Откровение, глава 13, стих 7. Власть дана многоголовому зверю, на головах которого написаны имена богохульные. В этой главе Откровения св. Иоанн Богослов дает описание зверя, борющегося с Христианством во все века существования нашего мира. Ему дана власть — нет власти не от Бога — победить святых и покорить человечество. Все? Нет, только тех, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира (Отк. 13; 8).
Нам открываются смысл и назначение земной власти, на главах которых начертаны имена богохульные, нам открываются страшные судьбы человечества.
Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых, (Отк. 13; 10).
Зверь уступает место зверю, согласно идее преемственности многоголовой власти, данной от Бога. По-видимому, речь идет о духовной преемственности власти зверя, о верности одним и тем же принципам. Для того, чтобы они были усвоены всем человечеством, зверю дается власть обольщать живущих на земле (13; 14). Они должны поклоняться образу зверя. Поклонение — не только признание власти, это духовное приобщение к власти. Поэтому требуется поклонение имени зверя или числу имени его, ибо это число человеческое шестьсот шестьдесят шесть (Отк. 13, 16–18). Зверь имеет число человеческое. Это человекозверь. Его тайна сокрыта в цифрах. И открыта в приметах. Цифры — знаки этого мира, знаки человеческие, форма, облекающая, укрывающая до поры до времени сущность зверя. 666 — три шестерки — безликая форма. Форма может быть произвольна, сущность же, увиденная св. Иоанном Богословом, неизменна. Она не принадлежит никакому времени и никакому имени. Ей дана или не дана власть победить всех живущих на земле. И убивать всякого, кто не будет поклоняться образу зверя. Ей дана или не дана власть победить святых…
Возможно ли рассмотреть в этой трагедии человечества частные приметы ее? Ущербность веры, возникающую от навязанных убеждений в незаконности Бога, Его “вторичности” в жизни этого мира, Его гонимости, Его якобы подчиненности властям мира сего? Возможно ли рассмотреть в этой трагедии человечества причины исчезновения Христианства, типы сознания, бегущего от веры как от самоубийства и ищущего веры как единственной надежды на спасение? Кто-то записан в книге Агнца, закланного от создания мира…
Богом дана власть зверю вести войну со святыми и победить их. Победить для того, чтобы быть самому побежденным, быть ввергнутым в озеро огненное. Зверю дана власть победить тех, чьи имена не написаны в книге жизни. Кто они? Кто эти святые? Те, кто изменил Агнцу. Может быть, это мы, называющие себя христианами и свидетельствующие своими жизнями об исчезновении Христианства?
Может быть, это те, кто дал начертать на своем челе и на правой руке имя зверя. Зверю дана власть победить не всех. Но он хочет превысить данную ему от Бога власть. И потому второй зверь пользуется не только пленом и мечом. Он прельщает и обольщает. Ему дана более страшная преемственность тем, что он может вложить дух в образ зверя. Значит, св. Иоанн увидел, как зверь покоряет себе не только плоть, не только душевные силы, но и ум. Может быть, поэтому печать зверя кладется на чело и на правую руку. На мысль и на действие. Значит, зверь лишен только власти действовать на дух человеческий, на образ Божий в человеке, все остальное отдано ему. Ему дано прельщать и обольщать. Обольщать новым христианством, взамен исчезнувшего. Но, видимо, только тех, кто не написан в книге жизни, кто изменил Агнцу.
Что ты думаешь об этом? Напиши. Конечно же, я не могла ответить на твои вопросы. Так, как мне хотелось бы. Это очень сложно. И очень больно. За цифрами скрывается тайна Антихриста. Тайны открываются смиренным, говорит Дух Святый. Господь сказал: Не бойся, малое стадо. Отец благоволил вам дать Царство. Малое стадо. Это сколько? Двое, трое, собранных во имя Его? Почему так мало? Но разве число что-нибудь значит? А три шестерки, похожие друг на друга, это много или мало? Может быть, это и есть ничто? Во всяком случае, это не больше, чем двое или трое, собранные во имя Его, ведь Господь Один победил весь мир. Да сохранит Он тебя в любви к Нему. Молись Ему обо мне. Обнимаю тебя.
Зоя
Усть-Кокса, 12 марта 1987 г.
* * *
Здравствуй, мой милый друг! Твое письмо обрадовало меня. Что-то зреет во мне, — пишешь ты, — но что, пока не сознаю…
Наверное, зреют начала будущих жизней. Мне часто думается, что я прожила несколько жизней. Две из них явно обозначены. До крещения и после. Но и в этих двух жизнях вместилось еще несколько. Говорят, что телесный состав человека меняется через какие-то временные циклы, что-то исчезает, что-то созидается заново. Что же происходит с душой? Ее жизнь стремительна, так несутся вешние воды в горных реках. Но состав этих вод подвержен ли изменениям? Тайна души раскрывается только отчасти и только тогда, когда ум может прозреть перемены в ней. Мы только чувствуем, что она куда-то неудержно стремится, куда-то порывается убежать…
Моя последняя повесть называлась “Побег”. Я начала писать ее, кажется, за полгода до ареста. Еще до рождения Филиппа, моего старшего внука. Его приход в этот мир на некоторое время остановил работу над “Побегом”. Помнится, я писала в коротких промежутках, между его кормлением и прогулками. Зоя недомогала, и я взялась заменить ее. Я привязалась к этому крошечному существу, восхищаясь каждым его проявлением. Он был послан нам Богом перед катастрофой, изменившей мою жизнь и жизнь моих близких.
Урывками, положив бумаги на стол, где мы его пеленали, я пыталась продолжить “Побег” записывая по две-три фразы… Рукопись забрали на обыске, когда пришли за мной. Я недолго жалела о ней, хотя эта вещь должна была вместить новое содержание, иной комплекс идей, чем те, которые владели мной при создании моей первой повести “Благовест”, повести “Безумный старик”1, романа “Начало” и “Рассказа о погребении” (“Крест для прокурора”).
Эти вещи были попыткой вписать Христианство как новое сознание, как поиски иного бытия в “контекст мира”, навязывающего свой образ мыслей и образ действий, диаметрально противоположные евангельскому сознанию. Эти два сознания сосуществовать не могут: не можете служить двум господам, — говорит Господь.
Человек узнал о Христе, будучи погруженным в мир, который Его не принимает. И теперь он, сжигаемый жаждой веры и Истины, мечется меж миром и Христом. И пытается разорвать порочный круг, но, не имея на это сил, решается соединить несоединимое, “ввести Христа” туда, куда, как я понимаю теперь, Его невозможно ввести.
Я пыталась в тех своих вещах (так же как в первых своих “Заметках неофита”, названных “Лестница страха”, и цикле статей “Возвращение блудного сына”) заявить о рождении нового сознания, сюжеты были вспомогательным средством для исповедания веры и для проповеди веры. Органичным ли было это образование, не мне судить, сейчас у меня нет даже возможности прочесть это: все написанное “выброшено в пространство”, мной не контролируемое, живо ли это или предано огню — я не знаю. Это отдано мной Богу, как и вся моя жизнь.
Я успела написать всего две-три главы, повторяю, что не жалею об их утрате. Наверное, потому, что поняла следующее: тема была неисчерпаемой, и вряд ли я была готова к ее исполнению, а во-вторых, “идея побега” — главная идея человеческой жизни, и, если Бог даст силу и возможность, ее никогда не поздно осуществить. И здесь я хочу отвлечься и рассказать тебе о своем понимании воплощения в духовном творчестве идей и тем, владеющих душой и умом. Все чаще я возвращаюсь к мысли, что творчество делится на душевное и духовное, при их взаимопроникновении.
Мы знаем, что Апостол Павел отличает человека душевного от духовного. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (I Кор. 2, 14–15). Далее в этом же Послании св. Апостол Павел вновь обращается к этому разделению: Так и при воскресении мертвых — сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает во славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано; первый человек Адам “стал душею живою” (Быт. 2; 7), а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное (I Кор. 15, 42–46).
Ты видишь, как св. Апостол Павел разворачивает эту мысль о непременном для воскресения преображении душевного тела в духовное? Тление, уничижение, немощь — вот определения душевного тела, душевности. Душевное подвержено смерти, оно рождается в смерти душевного. Сеется значит, по-видимому, в данном контексте — хоронится, погребается. Основной признак душевности — чувственное восприятие окружающего мира, диктующее определенный статус пребывания в этом мире, участие в его жизни. Это эмоциональное восприятие всего видимого и невидимого. Духовное же — сверхчувственное восприятие сотворенного мира, созерцание сущностей, корней, проникновение в глубины вещей и явлений. В становлении этого восприятия, как говорят св. Отцы, существует как бы своеобразная лестница. Переход от одной ступени к другой — ввысь — зависит от “выключения” страстей и чувств, желаний вплоть до смерти душевного тела — мертвости Господа Иисуса (II Кор. 4; 10).
 Всего: 1008
Всего: 1008  Новых за месяц: 2
Новых за месяц: 2  Новых за неделю: 0
Новых за неделю: 0  Новых вчера: 0
Новых вчера: 0  Новых сегодня: 0
Новых сегодня: 0  Добавить сайт
Добавить сайт