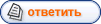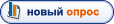]Ямщикова Ксения Ивановна – жертва ГУЛага Вопрос 2727: Вы начитывали «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына и сами записывали интервью у репрессированных. Сильно ли отличается одно от другого? Всё ли верно писал Александр Исаевич?
Ответ: Один к одному. Страшные рассказы Солженицына - это же точно такое же свидетельство загубленных. Ему за этот его труд - вечный памятник удивления и восхищения. Вот один из рассказов, записанных мной на магнитофон в 1980 году.
(Ксения Ивановна Ямщикова, проживающая в г. Барнауле, ул Заречная, 1. Богатая память, оригинальное мышление. Муж - директор завода – расстрелян; отбыла десять лет сталинских лагерей. Сейчас смертельно больная, но всё так же весела, ласкова, богобоязненна).
«Отца раскулачили, у него кони были хорошие. Наклали большой налог, мы сюда пригнали лошадей, и продали здесь всё, хотели откупиться. Нет, не смогли откупиться; тогда были деньги, их кулями везли.
Нет, это не подействовало, они стали отбирать последнее - и лошадей, и всё. И когда забрали лошадей, а сбруя висела на стене; сбруя была хорошая, под набором. Они когда стали брать, а узду уронили, и топчутся по ней.
Они тогда ту узду взяли и давай бить ею отца: «А, кулацкая рожа, ты значит прячешь, ты берегёшь». А он говорит: «Куда мне, на кого я надевать её буду. Лошадей взяли, а сбруя куда?» Его ударили несколько раз этой уздой, а потом всё остальное отобрали, забрали и привезли их ссылать. А брата Павла только женили. Это было в Парфёновском paйоне Алтайского края. Ах, Господи, какой же год-то?
Наверное, в 29-ом. А потом были они лишены голоса и их никуда не допускали. Они нe имели права никуда прийти, их гнали отовсюду. Как только собрание, мы говорим: «Пойдём, послушаем, чё будут говорить». Как приходят, их сразу гонят, маму и отца. Но отец не ходил, скромный был, а мама с матушкой отца Василия дружила.
Пойдёт с ней, а их гонят: «Вы не имеете права участвовать, кулацкие рожи, на этих собраниях». И они уходили. А потом уже, когда забрали и в Нарым их ссылать, то привезли их в сельсовет. Тогда брата только женили.
Её взяли за беднячку, она батрачка была. А сватенька была член совета, она стала председателя просить: эта дочь-то за пять месяцев заработала Нарым?
Были батраки, ходили по богатым, а теперь её ссылают? Они говорят: «Пускай выезжают хоть на свою заимку». И они лошадёночку тяте дали, и они выехали, и этим они остались - их нe сослали. Потом-то, Господи, сколько уж они пережили.
Я с седьмого года, муж у меня был на 12 лет старше. Революцию он встретил во Франции. Он революции здесь не видал. Царь тогда выбирал самых лучших солдат; построил по фигуре и послал. Там и был Фёдор Иванович. И когда оттуда вернулся, то сколько его тиранили , дескать, где ты был. Он не видал этого самого свержения. Когда уж сюда приехал, тут уж всё было совершено. А ему всё приписали. Он был унтерофицер.
Это всё ему приписывали, что ты офицер, и к этому придирались. Сначала он это скрывал, не знаю, зачем это он так делал. А уж потом, когда забрали, то я и не знаю, что ему приписали? Забрали, не вернулся, а на другой день и за мной приехали, меня забрали. Всё нагрузили на семь подвод и привезли. Он был директором завода в Шипунове. Привезли в Шипуновское НКВД, и там всё до основания отобрали.
Да уж грабили, так грабили. Остался у нас один мальчик. Они когда меня стали брать, я говорю: «Вы куда мальчика отправлять думаете?» «В детдом». Я говорю: «Не отправляйте в детдом, у меня брат в главмуке в Алейске работает. Вызовите брата и брат его определит». Они его вызвали. Валерию было лет, наверное, шесть. Он как обрадовался, что его дядя пришёл и возьмёт. И он кричит: «Ты меня, дядя, возьми!» А сам всё без конца просился по-маленькому. Ну тот часовой на изготовку и ведёт его. Увёз его и привёз передачу Павел-покойник, брат мой. Фёдор Иванович в это время в Рубцовку был отправлен.
И на Павла тут был наложен apecт, и десять лет, как один день. Пришёл с передачей Федору Ивановичу, передал передачу, и вернулся из Рубцовки в Шипуново; там наше уже было конфисковано: корова, тёлка – два года, корова давала 28 литров. У отца нашего не было большого хозяйства, а работники были: Тарасий и Терентий. Хозяйство среднее, он более 15 десятин не сеял хлеба. Лошадок хороших было 3 и две коровы, которые давали до 30 литров – вот наше хозяйство. А он много не имел. Семья у нас была небольшая – нас двое с Павлом; а этих братьев два, он отделил их.
ИгЛа: «Но вот перед самым, как отбирать всё, вы чувствовали, что что-то двигается, или так думали, что будут люди жить каждый своим трудом?»
Ямщ.: «Нет, не думали, что наших возьмут. Они были как середняки, а тут их по твёрдой, да по всякому. Ну ведь враг-то чё хочет, то и делает».
ИгЛа: «Вы чувствовали, что надвигается, что будут отбирать, раскулачивание, хоть как-то по разговорам? Подходило-то как-то оно, не в один же день началось? Может, где-то слышали?»
Ямщ.: «Они сначала душили налогами. Налоги, налоги. А был у нас Николай Кузьмич Брыдков, он был в церкви регентом. У нас волостное село было. Бывало, вот так окна откроешь, а церковь метров за 30 и херувимская песнь была в доме. Николай Кузьмич придёт к нам - отец был с ним хороший друг. Придёт: «Ну как, Николай Кузьмич? Надо откупаться». Он говорит: «Не откупимся, не откупимся, потому что задушат, хоть мы им всё свалим». И даже подушки наложили нам сдавать.
Я вот благодарю Господа, наших раскулачили, а они жили и неплохо жили. И Павла Господь вернул оттудова. Там он пробыл, ведь когда в Темиртау привезли, бросили прямо в снег. Снег тонет, а они давай ветви ломать, рубить, жечь, греться. Палатку натянули. Они пока могли только себя обосновать, Ну, и сколько время на снегу. Он весь испростыл, вернулся.
Ещё десять или двенадцать лет жил. Ни топора, ни лопаты, ничего не дали. Так снег разгребаем руками, чтобы ягодку найти, а кору сосны зубами грызёшь прямо на дереве, чтобы до луба достать. Потом лучше стало, был один бык, так на нём возили трупы. Обносились так, что вообще нет ничего на человеке; из листьев навяжут на бёдра. Гнус, комар.
Кто-то как-то сообщил в Москву, приехал представитель, собрали тысячи людей. На что закоренелые были кремлёвские кадры, Меркуловские, но и то представитель их ставки не выдержал: «Да чем же вас кормили-то?» И только вопль: «А-а-а». И так на каждый вопрос. Оказывается, что даже топоры, лопаты, которые было поручено отдать, как и продукты, несчастным, то всё не дошло, ушло...
Он же рабочий был, за что страшно все соболезновали о нём. Да как Павел Иванович, да как же он попался? Когда пришёл он, вернулся, тo уж никто не говорил, что ты «враг народа». Он бедненько жил, рассказывал. Говорит: «Когда нас поставили вот в такой позе – руки кверху, вот так надо простоять, пока весь опухнешь. Распишись, что ты КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР».
А он говорит: «Мало того, нам ещё написали, что мы дети попа. Мы так и сидели. У нас сроду не был никто священником, хотя и жили рядом с церковью. Мы думали, что доля правды сыграет, что вот они мы, из Алтайского края, никуда не ехать, искать не надо. Вот село Парфёново, наведи справку, что отец не священник. Он думал: «Распишусь, пускай буду сын попа». И я говорю: «Буду расписываться, что сын попа». «Ну, дед, расписывайся, что ты контрреволюционер». «Сроду не был конный милиционер, считаю, что это самая последняя работа». Когда расписался, то хоть руки опустить можно.
Вся камера подписала все обвинения явна себя. Кому чё ни приписали, наклали, и все расписались. Вот как умели мучить. Немцы ловили партизан, и одна умерла, Космодемьянская, да так и умерла Таней. А на самом деле она Зоя, но так не сказала - немец не мог выпытать. К советским свои попадали, и в чём не были виновны, как Блюхер, Уборевич – сознавались.
Говорят им: «Ты враг народа». «Да, враг народа». «Ты хотел продать Дальний Восток». «Да, хотел. Только расстреляйте, прекратите мучения».
И я не хлопотала и не писала никуда. Мы знали хорошо, что Фёдора Ивановича в этой тюрьме уничтожили. А когда Павел-то написал оттуда: «Молитесь о Фёдоре Ивановиче о упокоении», – сказали мне, что его вывели ночью одного из камеры. Он пошёл и сказал: «Простите меня, я больше к вам не вернусь». И ушёл и с концом.
А Павла, когда их погнали в Темиртау, он там и был все 10 лет. В 37-ом был взятый, войну там был, значит в 47-ом вернулся. Посылки принимали. Мама турила посылки, они жили в совхозе, у них было две дойных коровы, они потом завели. Толенька-то был живой, брат-тo. Толе уж было 24 года; и вот Толю не брали в Армию, потому что с чёрной записью в Армии нельзя.
А потом, когда уж всех выбили, тогда и Толю вызвали. Вызвали и говорят: «Ну как у тебя положеньице?» Говорит: «Всё так же». «Никто ни за кого не отвечает. Готовь трудовую». И вот его забрали и угнали в город Златоуст. И там он от голода помер. Никто ни за кого не отвечает! Никто ни за что не отвечает! Придёт время, вы отвечать будете, убийцы. Да, хороший был парень. Царство ему Небесное. Юноша такой добросовестный.
Отец Александр Сдобников был отца друг, он и ямщичил и возил ему всё. Он мясо возил сюда в Барнаул. У нас был один священник и дьякон Тихомиров, отец Николай. И все три человека управляли церковью. Бондаренко четвёртый.
Когда отец Александр Сдобников обновился, он снял с себя волосы и стал обновленцем. А я вот в это время и просваталась. Когда я просваталась, то мама уж очень верила в Царство Небесное, в Бога-то, и она не хотела никак отдать меня без венца. В 24-ом году это было. Тётю Любу в венце вели, а я пошла блудницей.
Сама не хотела этого; а потом, когда отец Александр обновился, снял с себя подрясник и стал уже ходить в пинжачке, как вот сейчас ходят. Я тогда я всё маму спрашивала: «Мама, отец Александр носит брюки?»
Мама: «Да как же не носит». Я вижу, вот он идёт к коню - у него один подрясник, пошёл к корове - другой подрясник. В баню пошёл - там опять подрясник. И я никогда его не видела, а выросла у них, чтобы он был без подрясника. Он когда снял волосы, то стал суфлёром в будке, играть на сцене. И Господь не отложил в длинный ящик, а прямо в течении двух-трех месяцев на него навалился тиф, и он помер.
Приезжает отец Иаков Кондрашов. Он был рядом в селе. Хороший был такой батюшка, у него было семь или восемь детей. Один из них такой, неполноценного ума, Иван.
А эти все ученые: Коля, Вася, Катя. И когда он залез на кумпол, то оттуда упал. Покатился с кумпола, за голубочками залез, а потом прямо так и встал. Ни ноги, ни руки, ни себя не поломал.
Я вышла за Фёдора в 24 году и мы уехали. Направили в Барнаул работать, тогда был ещё окружной город Барнаул.
…20 лет прошло со дня ареста, и я забыла думать о том, что мне искать его где-то. И молились, знали, что нет его живого. И вдруг я получаю из НКВД бумагу, явиться.
Вы не представляете, что со мной было? У меня же сын со мной жил и сноха учителем работала. А у неё отец был, Царство ему Небесное, не вмени ему Господи.
А они тогда на меня говорят: вот ты ходишь читать по покойникам, и ты где-то наболтала, вот теперь что же Аньке-то будет? Тебя сейчас заберут, а Анька-то будет страдать за тебя». Ну Валерий ничё, грубостей мне не сыпал. Я говорю, что я пришла, меня с Псалтырём привели к покойнику, а мне там международное положение не нужно. У меня совесть была чиста, что я это не говорила. Я вызвана по какому-то другому вопросу.
Не за болтовню, в этом я была уверена. За четыре дня дали, и у нас у всех внутри оторвалось, потому что мы уже напуганы. Валерий говорит: «Маму сейчас заберут, а с нами, как повар с картошкой, разделаются». Сват меня каждый день в эти четыре дня грыз: «Ты болтала, жалко только Аньку, а тебе всё равно, ты-то уж была там, знаешь».
Я пошла, попрощалась со всеми. Прихожу в главное НКВД. Я говорю: «Скажите, по какому вопросу меня вызывают?» «Давайте паспорт». Я подаю. Он: «Садитесь».
Я села. Осмотрщиком в депо работала, с ночи не спала. Да всё вот в таком напряжении. Сидела часа два. Один мужчина ещё пришёл, тоже сел, сидит. Думаю, да чё они тут миндальничают, да пусть садят. Ну сколько же можно. Говорю: «Слушайте, - обращаюсь к нему, - скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы меня вызвали? Если меня садить, так везите, садите. Я с ночи, не спамши. Четыре дня, как получила извещение, у меня настолько пережито». Он тогда: «Хорошо, я сейчас, сейчас». И смотрю, забрякал замком. Дверь такая чугунная открывается. Выходит: «Ты Ямщикова?» «Я». «Идёмте».
Вёл по коридору длинному, потом поднялись наверх. Всё в коврах, там такая идеальная чистота. И в самый угловой кабинет заходит. «Садитесь вот тут». Я села. Он вытаскивает из стола папку дел. Развернул, а там портрет Фёдора мужа. Я так к сердцу восприняла, брык со стула и потеряла сознание. Они тогда подскочили ко мне, нюхать дали, ввели в сознание. Один солидный, пожилой говорит: «Почему так неаккуратно?»
Потом мне воды принесли, попоили. Тогда закрыл он дело и больше мне не показали, а только вопросами пытал. «Скажите, Вы что-нибудь о муже имели со дня его ареста?» «Нет, ничего не имела. Подавала, будучи в лагерях, там у нас был прокурор, он писал во всесоюзный розыск, в дальневосточные лагеря. Я дала адрес мамы, но ничего не получила».
Так вот, значит, муж ваш реабилитирован. Вины в нём никакой нет. Сейчас мы вам дадим бланк, получите двухмесячное пособие его, и военный трибунал снимет с него судимость. Вам будет дан документ, что он полностью реабилитирован.
Ну думаю, слава Богу! Не буду по-петушинному петь, буду по утиному крякать. Дают мне бланк, я поехала в Шипуновский район, он в то время получал тыщщу сто, теми деньгами. Мне выплачивают две тащи четыреста. Приезжаю туда в трибунал военный, написали бланк, форму дали. И мне прислали реабилитацию домой.
На бюро он уехал. Он партийный был. Фёдор был в командировке, он два месяца устанавливал оборудование, шёл монтаж молочного завода. Он мастер, был он там два месяца. А тут ждёт шерстня, всех берут подряд и остался один Шокин - секретарь райкома. Забрали управляющего банком в райфо, в райпо. Bcex подряд, берут и всё. А ко мне звонят, телефон разбили; у нас в доме был телефон. Приехал ли Ямщиков? Отвечаю, что нет. Вот он приезжает. Туда дали телеграмму, чтобы приехал.
Приезжает. Он приехал, я и говорю: «Ты знаешь, все места оголили, всех забрали». Он говорит: «Да ты что?» Жулиду и Балашова, и Шокина, и всех, и Репкина – управляющего банком. Ни одного человека не осталось. Кирпачёва из семилетки забрали. Он был священник, и не стал священником.
А здесь учителем был и зять, и дочь, и жена. Только жену оставили, потому что у дочери двое детей было, а этих всех трёх взяли. Фёдор тогда и говорит: «Знаешь, что? Если я не вернусь с бюро, то ты оставайся при таких мнениях, что не врагов берут, а враги народа вырывают самый наилучший авангард. Оставайся при этом мнении». И поехал. Он был кандидат. Поехал и не вернулся. Его сразу там же и забрали. На утро приезжают - на место его назначили Башкирева, приехал принимать завод.
А со мной как поступили? Сразу подводы подогнали. Мы хозяевами жили в деревне, у нас и скот был. Феодор сеял овес для лошадей и нам четыре десятины, чтобы мы обрабатывали трудодни и он нам оплачивал хлебом.
Мы хлеб этот обрабатывали. У меня 14 центнеров хлеба только было. Подогнали подводы, и что я на трудодни получала, и всё погрузили. Кур прямо из курятника брали, рубили. Пригнали баб с завода, в коридоре половики резали, шили мешки и бросали туда кур. И всё это загнали в НКВД, всё конфисковали. Всё там и осталось.
Меня арестовали, а Валюшку-то Павел увёз. А потом в тюрьму, сюда, в Барнаул. Нас не судили, а только за особо держали. Вот меня и направили во второе ИТК. Вот тут я и была от звонка до звонка. Десять лет. Я была не лишена свиданки.
Контрреволюционерка. Мы особо - 58-я пункт десять.
Когда началась война, я была в лагере. Господи, да мы ждали смерти с часу на час. Были с Путиловского завода с Ленинграда, Петроградом его называли. У нас были инженеры.
Такие люди! Вот один из них Иван Иванович, такой хороший старичок был. Только-то слово и сказал, как потом-то нам объяснили, что он только и сказал: «Ну, Гитлер будет в Москве чай пить». Он же шёл-то как! Его и продали, кто-то донёс. Сколько было стукачей!
Когда его предали, то сразу забрали. О, Боже моё, слышим, сирена гудит. А мы же обмираем, когда сирена гудит. Загудела сирена, ну, думаем, что это, опять куда-то, или побег или что?! Всех выгнали, а нас было три с половиной тысячи постоянного контингента, и плюс пересыльных восемьсот человек, а зоночка-то какая. У нас уборную мужики выкопают до воды - за сутки полная. Вот столько было народа.
А за питанье уж не спрашивай, чем нас кормили. А сирена-то как завыла, мы думаем, чё такое. И сразу команда: «Выходи-и-и-и-и! Стройся по пяти!» И там все выскакивают и раз-раз- раз! И вот так построишься. Построились. Выходят. А тогда ещё не было погонов, а петлицы были. Галифе на них. Выходят они: «Ззэка-а-а-а!»
Они это говорят таким отрывистым голосом, что значит, врага сейчас нашли. «Вот, среди вас КаЭрДэ, пункт десять города Ленинграда, Путиловского завода, рабочий такой-то, инженер, конструктор такой-то. Вот он злорадствует, что Гитлер идёт на Москву. Нет, этого не будет. Он ошибся!» И он тут же стоит. Каждый думает: «Не я ли?» Рукава же у нас, у этого жёлтый, штанина красная, эта серая, эта зелёная. Перепёлки – не перепёлки.
Я им шила гимнастерки и брюки, только не военного значения. С наколенниками, а им простые. Надо обязательно, чтобы было чёрное. Ну вот, мне поручили: «Ксеня, давай на инженеров». И я чернила эти костюмы, рубахи, брюки, гимнастёрки. Смотрим, батюшки, Иванова, как сейчас помню повели, руки назад.
В третью часть туда, далеко. Там домик стоял, и там же могила - валили покойников туда. Потом три, четыре пары быков возят на кладбище покойников. Полный произвол был. Мы посмотрели, как его повели. На утро нам уже сказали: «Приговор приведён в исполнение».
Ну и какие внутри нас мысли были, хоть и не высказывали их? Что несёт война - облегчение или скорбь? Дак, Господи, мы чё, мы только ждали, что сегодня, завтра нам смерть. А потом, когда пришло, чтобы надевать погоны, присваивать звания офицерам – не могли поверить. Приходит Вера Семёновна Птихина к нам, а я познакомила её со своими родителями.
Мама хорошо жила, а у них не было продуктов; и вот она к моим родителям ездила, дадут что-нибудь и они мне передавали. Моя цель была, чтобы поддержать своё здоровье. А мама не считалась ни с чем. Давали, хоть воз вези. Она приходит и вызывает нас. Это дело было под Пасху. Она мне в корзине яиц крашенных принесла, курочка зажаренная и кулич мама испекла.
Вот это нам всё передаёт и вызвала нас на свидание, и говорит: «Вот мои дорогие, церковь открывают, офицеры будут, лейтенантов не будет, и погоны будут». А мы стоим и сразу не знаем, челюсти у нас застыли. Всё, мы не можем ни слова больше сказать. Думаем, нас сейчас, как Иванова, расстреляют и её. Лида ей мигает. Тукинцев был надзиратель. Она ей мигает, ты, дескать, остановись. А я ничё не помню, у меня всё застыло, челюсти замёрзли от этих слов. Мы думаем, да как она могла прийти в привратку и такие слова нам говорить?
Мы думаем, да как же? И он её не берёт и нам ничё. Мы берём передачу и идём. Ни живы, ни мёртвы. А у нас был Степан Львович Маренков, он был священником. И сидел за язык. Дали ему десять лет. Пять поражения. Он сказал, когда сидели за столом и заместитель его. Тому нужно было его должность. Он не знал, как съесть Маренкова.
Они сидят так вот на досуге в конторе. По радио передают сводки и он говорит: «Смотри-ка, как Гитлер-то идёт!» Только Маренкова слова-то было, и он сразу туда его, и десять лет. Ко Львовичу приходим в контору, а он главным бухгалтером сидел. Мы говорим: «Степан Львович, Вы нам нужны».
Он выходит: Хороший, доброй души был человек. Мы говорим: «Пойдём!» А ведь у нас там чё? Тротуар вот такой сантиметров 30, тут палочки натыканы. Мы не имели права на зелёную травочку никак стать. Только по чёрной этой тропочке. Двоим никак тут не пройдёшь, а только гуськом. Я говорю: «Степан Львович, пойдёмте подальше», - и оглядываюсь. Говорит: «А что?» « Вы посмотрите, зa нами никто не идёт? И надзирателя нету?» «Что случилось?»
А он нас боится, замирает. «Послушай, мы сейчас из привратки, и Вера Семёновна пришла и говорит: церковь открывают, офицеров восстанавливают. Погоны надевают».
«Да вы что? Так долой эту власть?» «Мы не знаем». А у нас Иванов перед глазами. За что? Нам же зачитали, что только одно слово сказал, что Гитлер будет в Москве чай пить. Тогда мы: «Матерь Божия, да что же такое?» Он говорит: «Ой, милые сёстры, пожалуйста, не говорите ничё, нигде. У меня-же тут в конторе вольняшки, в случае чего, они скажут, что нам будет?»
И вот, смотрим утром, выходим на работу, он уже нас встречает и говорит: «Ну вот, мои дорогие! Точно, и не заберут и не нас и ни вас, и ни Веру Семёновну, а вот так. Видимо, насели как следует, чтобы, раз не открывается второй-то фронт, вот и надо было». «Львович, значит, нас не заберут?»
«Нет, нет! Вольняшки открыто в конторе разговаривают. А только прислушиваюсь, потому что я болтун, за это я получил десять лет. Так себя болтуном и называл». Ох, ох, так сколько же пережито, сейчас-то оно уже загладилось.
Они меня оставляли по вольному найму, чтобы я там работала, и не выпускают из второй части. Такие условия создавали мне – квартиру и мальчишку мне привезут, только оставайся. А я: «Нет, гражданин начальник». «Да уж теперь не называй: гражданин начальник. Скоро освободим».
А я говорю: «Да как же я, у меня такой характер, я здесь страдала; я принесу обязательно бутылку молока, или ведро картошки. И меня в привратке попутаете и дадите мне снова, и я приду опять сюда сидеть. Нет, не буду ни за что». Да, вот здесь нам маленько сбросили. И вот эти путиловские-то все и остались инженеры, вольнонаемными. Ох, они меня агитировали: «Да Ксеня! Да ты оставайся». «Да чё вы к себе равняете? Вы учёные люди, а я -то кто!»
Господи, пустяковая у меня была там работа – вышивка, а она мне страшно помогла там. Я не видела там таких тяжёлых и ужасных paбот, потому что я сидела с девчонками заграничниками. Их было до ста человек, но они все тут и умерли. Все умерли. И вот у меня эта сшивка была, руками, машиной.
И вот они меня: «Оставайся и с иностранными девчонками и будешь». Венгерки, чехословачки, полячки и румынки. Их тут был полный лагерь. Они пришли к нам как? Прочитали в газетах, что в Советах можно получить какое угодно образование. Сейчас не забуду, как единственная дочь у отца, а он свой трактир имел. Румынка. Ну она взяла и брата родного съагитировала. Перешли границу и их сразу поймали, и вот им «консерватория». Бессрочно. Их нет, они за особым отделом и были в Серпухове, под Москвой. Вы знаете, они были туда вывезены, а потом сюда их привезли, в глубокий тыл.
Не 25 лет им дали, а бессрочно! Они же грамотные. Им всё равно, умирать или жить. Они били тревогу: «Давайте нам свободу». Как только москвичи прилетят начальствующие, и говорят: «Скажите, мы пожизненно здесь или вы нас освободите?» «До особого, до особого распоряжения. А потом мы вам скажем». И они всех увели на кладбище, вот им и особое.
Они умерли почти все. Потому что норма ужасная, а они шили на ножных машинах, они белошвеи. Сидели на военных заказах, надо было полста рубах сшить. Полста рубах – это норма за восемь часов. Мы по двенадцать работали часов. Да надо ждать, чтобы она на бракираж прошла, прошла первым сортом, чтобы там не было ни выступа, да строчечка была такая.
Девушки шили, у них руки, ноги были, как механизмы – всё так выработано. Они хорошо говорили по-русски. Кто знает, были ли среди них верующие? Они только говорили, особенно Фрида. Мы с ней почему дружим, место-то одно. Мы день, они в ночь. Мы на их местах – мы пошли на работу; мы уходим - они на наше место. Места-то не было. Мы вот на этом месте с ней как родные были. Сколько их, румынок? Они семьями прямо приходили. Две-три сестры. Они же в газетах как? В Советах можно какое угодно образование получить, что хочешь, всё можешь в Советах. Вот они сюда и ринулись. Организовались и перешли границу. И как только перешли границу, их сразу за решётку.
Окончание войны как услышали – не знаю. Я была уже освобождена, но по согласию туда работать я не пошла. А парня мне устроили. Он устроен был в военных лагерях. Я когда пришла, то у мамы прожила, и его давай: «Окончи на шофёра». Окончил. Туда поехала и: «Вот теперь сына мне устройте».
Взяли, и он возил полковника. Мы боялись произнести слово, ведь какой ужас-то был, когда Сталин умер. Там про него говоришь и дрожишь, думаешь, то ли так. Эта кубытка-то ходит там, Чадаева. Она, как вольнонаёмный инспектор. А при ней ну ничё не скажи. Она вот так прямо глазами ела.
И мы, как только Чадаева появилась, сразу молчок. Все ждали освобождения, особенно вот эти заграничные, что нас теперь освободят. А они что, приехали – что было до бани, то и после бани. «До особого, до особого». Их кого освобождать-то, они уже все примерли. Мы сидели невинно и думали, что и все так.
Не было такой думы, что вот я невинно сижу, а уж остальные за дело сидят. Такого и в помине не было ни у кого. Были, которые машинами хлеб воровали, потому что голод их заставлял. Они бедные, как мать с сыном сидели и с дочерью. Им дали по восемь дет, по десять лет, Так разве мы могли их осуждать? Мы им только сочувствовать могли. Там виноватого не ищут.
Только одно сочувствие. Не было ни националистов с Украины, ни с Латвии. Вот эти с Ленинграда были: Соболев, главный инженер, Петров, Иванов - их было пять или шесть человек. Сколько недобрых было! Обижали, убивали. Вот если, например, украдёт пайку тюремную, за тюремную пайку убивают у начальства на глазах и те не заступаются. А за передачу – нет. За передачу карает начальство.
Вот такие, кто сексотничали друг на друга, их узнавали. Они докладывают на людей, вызывают к оперу – стучат друг да друга. О, им льгота, их кормят особо. Вот я перенесла от них, родители мои сколько перенесли. Одна такая детная мать, такая маленькая. Её освободили. Она была воровка, украла хлеб.
В этом совхозе, где мои родители живут. Попала под указ, как детная мать, и её освободили. Она приезжает к нашим. Мама, она же как мать, пришла узнавать: «Ты там была с Ксеней вместе, да как её здоровье?» «Ей в субботу был суд, ей дали год ещё». Там каждую субботу суд. Украл или чё, и обязательно прибавляют. Мама потеряла сознание: «Господи, Господи! Мы ждали, думали. Толенька приехал, я с ним всё лишнее уже передала, думаю, пускай он увезёт, оно мне не нужно уже».
Она сексотка была, работала в третьей части. А мы знали. Начальство какими-то судьбами, но дадут знать заключенным, что бойтесь этого. А потом их там не держат. Как только сексотишка, так самое большее месяца два-три и… в дальний этап. На восток и поедут, да и нам дадут знать. Мы их боялись, как вот эту Юркину. Она пришла, как потом мама рассказывала, всё это им и наврала. «Поехай, Валера, узнай, как там мама».
А я ещё связала и с главным инженером Жигулиным Николаем Федоровичем. Он же инженер, я захожу к нему в кабинет, как заключённый человек; прихожу только убирать или подметать. Когда прихожу с тряпкой и с ведром и никого нет, то мы тут и переговорим. Он и говорит: «Валерий приехал».
Я: «Слава Тебе, Господи». «Послушай, он говорит, Юрченко-то чё там сделала, твоих родителей убила. Сказала, что тебе суд был в субботу и тебе дали год. И вот родители послали Валерия, чтобы узнать про тебя. Я сейчас посылаю Дарью свою, пусть она успокоит стариков, родителей». Хороший был человек. А для чего она это сказала – непонятно. Если бы только она не попала под указ, как детная мать, то она бы загремела на восток. Таких терпеть не могут. Они так говорят: «Да если она тебя, когда вы по несчастью сидите обои - предаёт, тебя съедает. То меня она почему не съест?» Надзиратель говорит: «Я вот гимнастёрку унесу, мы её изготовляем, она стоила семьсот, девятьсот рублей, и если она заметит, что я взял, то она меня продаст. Надо, чтобы её тут не было».
Мы-то жили в Стахановском. Мы паровые работники, а я на заказах сидела – нас было только семь человек заказников, мужчин трое, и на верхних одеждах, один шапошник. На белошвее, Ольга Миренина, Петроградская, эта на платьях - восемь человек на заказах сидели. Верещажиха попадья была, тут в Захарьевской церкви, у неё батюшка умер, а её, не знаю, зa чё посадили. Вот она наша стукач была; у нас сидела и стукач была.
Ушла она, её рано выпустили. И мы как только приходим, так сразу перебросились, если её нет долго. Ты смотри, на какие дела пошла. Раз она стучала, то мы страшно её боялись.
Трёпышев у нас старичёк, сидел на верхнем пальто. Хороший старичек, десять лет ему тоже дали. За лошадь что ли, лошадь у него пропала. Поддержки ему не было, старушка у него умерла, и некому было ему передачу передать, он на пайке жил. Но ему было хорошо, его капитан, начальника колонии поддерживал. А мы выполняли приказ начальника колонии – постоянно на прем. блюде. Придёшь вечером, а тебе вот такое перо луку дают, такой зубочек чеснока - мы пойдём получить.
Хлебушка дополнительно, вот такой кусочек со спичечную коробочку. Меньше даже. Это цинготные, чтобы зубы не выпали. Они понимали, что мы нужны им. Такого не слышали, что кто, может быть, в праздники, как в Пасху не хотел выходить, молился. Нет, нет, невозможно было. Вот тот Зинкин, он тут живёт рядом со мной; он до сих пор меня всё ест. Уже столько лет, и всё ест меня. Он там был надзирателем.
И как только я где попаду ему на глаза, так он сейчас: «Жалко, жалко, что тебя там не уничтожили». На Юрина и живёт, вот тут у Пивоварки, первый дом. Николай. На персональной пенсии. И главное, как только заходит, а мы все за машиной, у нас была отдельная работа, как он только приходит, и обязательно ему надо, чтобы все мы соскочили и: «Здрааааавствуй, гражданин начальник!» Это так надо ему. Такой почести требовал от нас. Ну мы, конечно, первый раз поздороваемся, выкричим, а как же, раз заставляет, а то посадит в карцер за неподчинение. Вот мы все соскакиваем, семь человек: «Здравствуй, гражданин начальник», «гражданин дежурный». Поздоровается. Смотришь, он через два- три часа снова появляется.
А мы как сидели, так и сидим. «Почему не здороваетесь?» «Сколько раз можно здороваться? Ты чё, нас в тюрьму посадишь?» Мы прям его на «ты». И на кой ты нам нужен? Мы уже в тюрьме. А больше нам чё? Мы Шаргину, Казакову только один раз кланяемся. Начальник и главный инженер. А ты кто? Ты меня не колышешь, чтобы я в уборную правильно сходила, не по земле, а по чёрной дороге.
Ты только вот над этим хозяин, а больше ты мне ничё не сделаешь! И так отучили его. А зло посеялось. Вот такие делали революцию. Вот они – гвардия. Пришёл, табак нюхает и молиться стал. Молится и под маркой, что он как верующий человек, пришёл ко мне: «Ну давай, я тебя знал по несчастью. А теперь ты живёшь, вот видишь как. Ты мне обязательно купи Библию, мне надо. Евангелие и Библию».
Я в 28 лет была арестована, и как переступила порог тюрьмы, так сразу кончилось обыкновенное женское. Прихоти все отказались. Три с половиной тысячи выгонят, стоят на сороко-градусном морозе. Вот почему у меня сейчас ноги-то мёрзнут. В столовую иди, там тебе наварят голов овечьих, со всей шерстью. И как тебе поварёнку вольют, а от неё там запах невозможный; не пойдёшь – тебя бьют.
Не выпьешь, ещё можно терпеть, но как только её выпьешь, зловоние, тогда не знаешь, что бы съел. А больше ничего не дают. Нам по семь суток не завозили хлеба. Начальство на нас кричит: «Чего вы хотите? Кровь рекой льётся, ремни свои варят, а вы, заключенные, да ещё требуете, чтобы вам хорошее давали!» Пшеничку привезут, сварят, а она – голимая полынь; и ложечку одну положат и потом вот так леванут, ну сколько там, капелек двадцать, пятнадцать маслица».
Новости последние – они не новы -
В подлунном мире это уже было:
Правители кричат и обольщают словом,
И вопли дикие при музыке постылой.
Что мне хотелось бы сегодня же услышать,
К чему не потерял я интерес?
Что на дистанции последней станет лишним,
Ведь смерть побеждена, когда Христос воскрес!
Нет благовестия на языке понятном,
Чтоб прямо о Христе, о Боге говорили,
Свободно, на заказчиков чтоб не было оглядки,
Слова Евангельские – на орлиных крыльях.
Новости мирские мир раскинул,
Бахвалится пустяшными делами.
Корреспондентам премии немалый стимул,
Но ни словечка про Христовы длани.
Эфир принадлежит, конечно же, Владыке,
Способность мыслить, составлять программы.
Чего ж вы пыжитесь, топорщитесь на дыбки,
Для Бога не оставили секунду, миллиграмма.
И вечно новое - лишь повесть о Христе,
Бессмертно славословье Иегове,
Скажите же понятно, в простоте,
О Жертве искупленья на Голгофе.
Умолкнут, отбазарятся артисты,
Блудливый сон сотрётся и исчезнет,
Не будет тьмы зловещей коммунизма,
Заменится Божественным, полезным.
Но это не сегодня и не завтра,
А только в вечности, не в мыслях, наяву,
Такого места не найти на карте,
Ко граду Божию псалмы царя зовут.
О, новость бесконечной новизны
О браке Агнца чистоты нездешней.
«Несите эту весть для добрых и для злых!» –
Так говорит и Павел - первый грешник.
18.2.05. ИгЛа
[[/color]/b] Всего: 1008
Всего: 1008  Новых за месяц: 3
Новых за месяц: 3  Новых за неделю: 0
Новых за неделю: 0  Новых вчера: 0
Новых вчера: 0  Новых сегодня: 0
Новых сегодня: 0  Добавить сайт
Добавить сайт